Посвящается моей однокласснице
Гертруде Адамовне Цильдерман
|
Ты пальма, Я птица, Ветер память. Спираль твоей кроны Его заставляет кружиться, Увлекая меня за собою. Легко и свободно парю над тобою. Ты пальма, Я птица. Раиса Берг, 1985 |
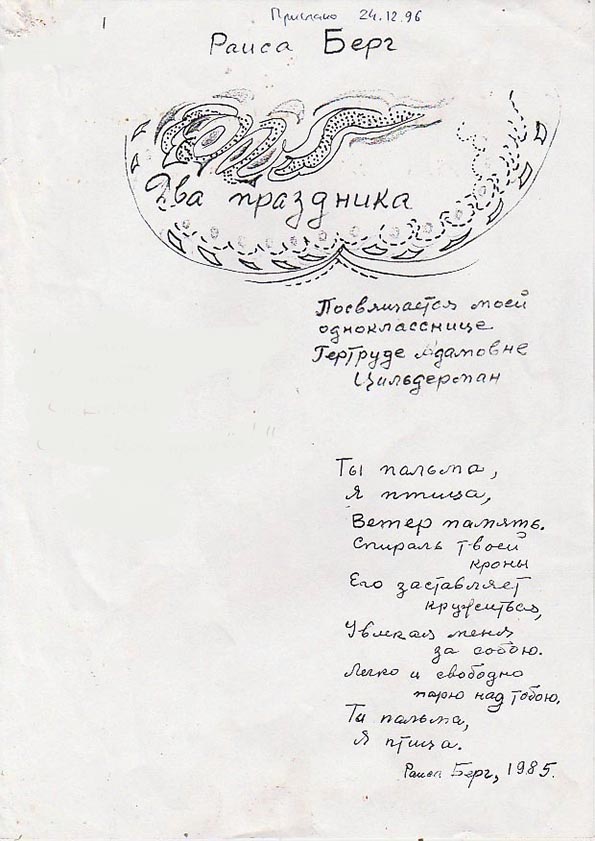
Из меня получилось! Мне было 8 лет, когда отец, мачеха, мой старший брат Сим и я гостили у родственников отца среди зеленых гор и долин Кавказа. Огромный жук влетел в освещенную луной комнату. Я стояла около кровати, готовясь лечь спать. Вот сейчас он наткнется на меня и поползет по мне. Я испугалась и заплакала. «Я думал, из тебя получится что-либо, а теперь вижу, что ничего из тебя не получится», сказал отец. Его возмутила неспособность понять безобидность жука.
Условия для того, чтобы из меня что-либо получилось, у меня были самые что ни на есть неблагоприятные. Получается из тех, кого растили любящие родители. Те, из кого получилось, верят в себя, ведь верили же в них их папы и мамы.
Мамы не было, а отец, прославленный ученый, и мачеха, отпрыск аристократической семьи, воспитанница института благородных девиц, ни малейшей любви к нам с Симом не испытывали. Нас держали в черном теле. Нас не били, но мы, бездельники и дармоеды, не заслуживали ничего, кроме линьков. Без угроз мачехи я никогда не узнала бы, что линьками секли матросов Черноморского флота, которым командовал отец мачехи. Выявлять таланты и склонности деточек и исподволь способствовать их развитию было некому.
О тех, кто восполнил недостающую веру в то, что из меня что-либо получится, написана эта сказка-быль.
Я училась в немецкой школе. Отец отдал меня в эту школу, и я попала в четвертый класс, класс Д. Как случилось, что девочки этого класса, их было всего семь, полюбили меня, сразу, с первого взгляда, понять решительно невозможно. Мелкая, дурно одетая, плохо вымытая девчонка, плохо знающая немецкий язык, в школе, где преподавание велось на немецком языке, не имела никаких шансов привлечь к себе внимание. У всех были папы и мамы, любящие родители. Их дома обучали языкам, музыке, танцам. Их дни рождения праздновались с превеликой помпой, и все семь, включая меня, были почетными гостями. А когда подросли, то и мальчиков приглашали.
Папа Али Нейман был заведующим магазином, где делали очки. Принадлежал магазин немцу по фамилии Урлауб [Иван Яковлевич, 1856-1936].
Пятьдесят лет спустя после описываемых событий [в 1974?] я была приглашена в Германию, в Майнц, читать лекции в Университет имени Иоганна Гутенберга. 500 лет тогда исполнилось со времени открытия этим Гутенбергом книгопечатанья [Гутенберг умер в 1468]. Так не скажу чтобы на каждом шагу, но неоднократно попадались мне роскошные магазины фирмы Урлауб.
Яства, которые подавали к столу у Нейманов, запомнились мне на всю жизнь, все эти тепленькие пфеферкухены, шпеккухены, пирожки из слоеного теста, шоколадно-ореховые торты и уж не знаю что за вкуснятина. Заикнуться о том, чтобы мне купили что-либо, что я подарю Але, было невозможно. Но вот, наступает мой день рожденья, и я прошу мачеху, Марьмиху, как на революционный манер называли мы Марию Михайловну [урождённую Саблину? Кедрову? Остроградскую?], жену отца, разрешить мне пригласить всех семь моих одноклассниц.
Нет, семь гостей это слишком много. Она разрешает пригласить пять. Прошу, умоляю. Нет, пять и разговор окончен. Будь я постарше, будь я тем, что из меня всё-таки получилось, я отказалась бы от празднования моего одиннадцатилетия. Но я покорилась приказу ограничить число приглашенных.
С замирающим сердцем я каждой из пяти прошептала приглашение и просьбу никому не говорить о полученном приглашении. Все согласились.
Дело было в четверг. Празднование в воскресенье. На следующий день все пять девочек поодиночке сообщили мне, что прийти они ко мне не смогут. Предлоги были разными: урок музыки перенесен мамой на это время, бабушка приезжает, билеты на балет куплены… В субботу, в самый мой день рождения [по новому стилю суббота приходится на 27 марта 1926 года, когда Р.Л. исполнилось тринадцать лет… а она говорит: одиннадцать], они просят меня остаться после уроков в классе, они сделают мне сюрприз. Осталась. Все семь, принаряженные, сдвинули в сторону стол и стул преподавателя, образовали хоровод, закружились, как по команде разделились и остановились, как вкопанные. И каждая медленно приняла балетную позу, каждая свою, и все они замерли. Постояли, рассыпались и бросились меня целовать.
Я поверила всем отговоркам и очень радовалась их сюрпризу. Марьмихе я перечислила все пять предлогов, и она, так же как и я, поверила, что всё правда. О балете, исполненном в мою честь, я и не заикнулась.
Близился день рождения Али Нейман. Я всю жизнь хотела быть режиссёром. Теперь в моём распоряжении было семь артистов, безусловно послушных моим командам.
В школе нас начали обучать английскому. Решено и подписано: во время праздничного приема в Алином доме будет сыграна пьеса, сочиненная мною, и играть мы будем на английском языке, а либретто будет написано по-немецки, тетушки Али Нейман не сильны в русском языке.
Пьесу я сварганила из какой-то сказки. Учительница английского охотно исправила мой текст.
Действие первое. Наследник престола и молодой министр (их роли будут исполнять девочки) за шахматной доской. Принц хочет жениться. Его будущая жена должна быть трудолюбивой. Он женится только на той, которая сама изготовит приданое. Министр говорит о прекрасной Розамунде, дочери короля соседней державы.
Действие второе. Король, королева и прекрасная Розамунда обсуждают необычные условия соблазнительного сватовства. Розамунда сроду иголку в руках не держала. Напрашивается обман. Приданое изготовит Сабина, сводная сестра Розамунды, дочь короля от первого брака. Зовут Сабину. Желание короля для нее закон.
Действие третье. Принц в полном одиночестве направляется повидать Розамунду. Он оказывается перед дверью, ведущей в покои Сабины. Сабина на чистейшем английском языке чистейшим колоратурным сопрано поет песню, сочиненную для моей пьесы Симом. Это очень грустная песня. Сабина любит принца, готовит приданое, но достанется принц Розамунде. Пантомима принца изображает отчаянье.
Действие четвертое. Король, королева, Розамунда ждут принца. За сценой раздается лай и рычанье атакующей собаки. Появляется принц. Его одежда порвана, но он не унывает. В руках его иголка. Нитка вдета. Мы начитались Гоголя и неправдоподобие всей сцены нас нисколько не смущает.
Принц обращается к Розамунде. Не будет ли она так любезна пришить оторванный собакой лоскут. Нет, Розамунда пришить лоскут не может. Принц слышал, что у Розамунды есть сестра. Не поставит ли она заплату? Появляется Сабина. Принц на коленях просит у нее и ее отца ее руки. Делать нечего. Согласие дано.
Действие пятое. Бал. Принц и Сабина помолвлены. Они танцуют. Розамунда танцует с молодым министром, тем самым, кто рекомендовал ее в жены принцу, а в четвертом действии с превеликим искусством изображал собаку.
Мы репетировали в течение месяца. Кира Тулякова, первая ученица, была королем, Аля Нейман — королевой, мачехой, той, что подала королю идею подлога, Лида Чудновская, воплощенный аристократизм — принцем, Ирочка Слепкина, вылитая Лорелея, золотоволосая, синеглазая певунья, нацело лишенная коварства совратительницы рейнских рыбаков, была, конечно, Сабиной. Для огненно-рыжей умницы-красавицы Герты Цильдерман, которой посвящена эта сказка-быль, не нашлось роли, кроме роли придворной дамы.
Лида Чудновская, Кира Тулякова на худой конец были пригодны для исполнения мужских ролей. Герте мужская роль была противопоказана самой Природой. В пьесе, созданной великим драматургом и режиссером, где всем нам предоставлены подмостки, Герте была уготована роль Авроры, на заре выходящей из пены морской.
Играть министра должна была Елена Ашкенази, самая красивая из нас и конкурентка Киры Туляковой за место первой ученицы класса. Звалась Елена Ашкенази Ашкой, Ашечкой, не без иронии, ибо Ашкой зовется ученик А-класса, а мы были приготовишками. Ашечка была, конечно, в числе тех, кто танцевал для меня. Из исполнителей моей пьесы она выбыла случайно. Ее заменила кузина Али. Для себя я выбрала роль прекрасной незадачливой Розамунды.
И вот, наступает долгожданный день. Первое февраля. Я объявляю Марьмихе, что костюма мне не нужно. Алин папа арендовал костюмы из костюмерной Мариинского театра.
«Ах вот оно что!» говорит Марьмиха. «Я запрещаю тебе идти к Нейманам. Костюмы грязные, заразу подхватишь.»
Я просила дать кофточку. Чтобы платье не прикасалось к коже, поднизь надену. Нет кофточки. Просила одеколона. Протру всю себя, когда платье сниму. Нет одеколона.
Мне было 12 лет [скорее тринадцать; это 1.02.1927; иначе бы балет шёл после пьесы]. Я давно уже перестала по-детски плакать. Теперь я плакала. Я кричала, кричала во все горло, в ужасе, в отчаянии. Всё, всё сорвалось, пропал грандиозный многомесячный труд, гадость подстроена тем, кто так любил меня, так много труда и внимания уделил моей затее [?].
Когда я уже осипла от крика и лицо мое распухло от слез, мачеха вдруг сказала: «Можешь идти!»
Сим заново разогрел щипцы для завивки волос и заставил нежные золотые концы локонов-трубочек, парящих вокруг лица, вмиг превратить меня в прекрасную Розамунду.
Вся феерия в костюмах из костюмерной Мариинского Императорского Театра, сыгранная на английском языке и разъясненная на немецком в разукрашенных цветочками либретто, состоялась.
Костюмы, предназначенные ласкать взор российского самодержца, ласкали его не только красотой и богатством, но и безупречной чистотой и свежестью. Горные вершины в лучах восходящего солнца, лепестки розовых роз делились своей белизной и расцветками с атласом и бархатом бальных костюмов принца и Розамунды.
Я никогда не задумывалась над вопросом, почему Марьмиха вдруг дала разрешение идти «к Нейманам» и почему она не заикнулась даже о предложенных мною гигиенических мерах.
Задумайся я, первое, что пришло бы мне в голову: мачеха правильно поняла, что я умру раньше, чем прекращу реветь, а по мере выхода из строя голосовых связок сипеть, беззвучно рыдать.
Мачеха ничего не имела против моей смерти. Убить меня не входило, само собой разумеется, в ее намерения. Хорошо, если бы я сгинула с лица земли без ее участия. Этого ее желания она не скрывала. В свою счастливую звезду она не верила.
Страдая от невыносимых головных болей, так и не узнав от мачехи о существовании аспирина, пирамидона, анальгина, я, бывало, говорила ей: «Так болит, так болит. Умираю.» И она всякий раз говорила мне: «Можешь быть уверена, что ты никогда не умрешь.» Я рассматривала ее слова как утешение, и сама не разгадала бы их смысл. Мне разъяснил его сослуживец в Институте, где я была сперва докторантом, а потом старшим научным сотрудником. Я рассказала ему, как мачеха утешала меня таким необычным способом.
В тот роковой, счастливейший в моей жизни день, когда сыграна была моя пьеса, написанная на английском языке, задумайся я над внезапным разрешением Марьмихи, я подумала бы, что она не хочет моей смерти. Причину внезапного разрешения мачехи открыла несколько лет спустя Аля Нейман, Алья, как на татарский манер именовали мы ее, имея ввиду ее сходство с пушкинской Земфирой, героиней Бахчисарайского фонтана. Алья нарушила обет молчания.
Я была спасена танцовщицами мне в утешение станцованной сюиты, заменившей празднование не только моего одиннадцатилетия, но и всех последующих дней рождения.
Родители Али Нейман, щедрые Нейманы и все те, для кого на немецкий язык были переведены либретто, и сами исполнители моей драмы поняли, что я в беде. Мачеха не пускает меня, мстит за отказ нанести мне визит тех пятерых, кого она разрешила пригласить. Спасительная операция в обход мачехи должна была навеки остаться для меня тайной. Алин папа, директор магазина Урлауба, снабжавшего весь Петербург, включая Зимний дворец, очками, позвонил моему отцу и попросил его поторопить меня. Отец не имел ни малейшего понятия ни о несостоявшемся праздновании моего дня рождения, ни о моей деятельности в качестве драматурга, режиссера и актрисы на праздновании Альиного дня рождения. Я опаздываю, меня надо поторопить. Отец поручил мачехе поторопить.
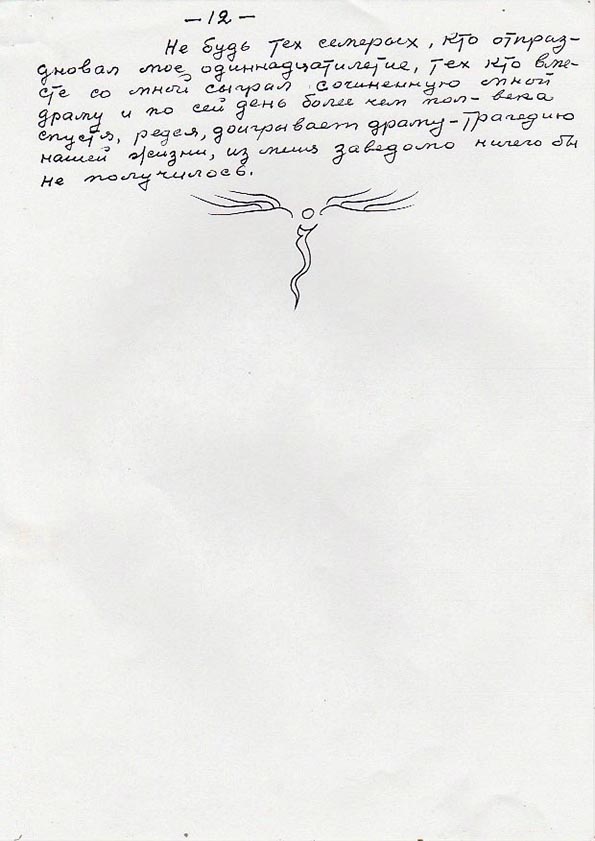
Не будь тех семерых, кто отпраздновал мое одиннадцатилетние, тех, кто вместе со мной сыграл сочиненную мной драму и по сей день, более чем пол-века спустя, радея, доигрывает драму-трагедию нашей жизни, из меня заведомо ничего бы не получилось.
А из Сима не получилось ничего того, что предвещали его таланты. А одарен он был ими Природой, в отличие от меня, с превеликой щедростью. Чуть ли не в младенчестве он сочинял стихи. Мачехи тогда не было, и он показывал их отцу, и отец критиковал их. Когда волны горной реки, в виду был Кавказ, сцеплялись друг с другом в бешенной схватке, как барс и ягуар, отец говорил, что эти представители кошачьих хищников не водятся на Кавказе. Постигнув в совершенстве немецкий язык, Сим перевел Медного всадника, и грозная музыка пушкинских строк была воспроизведена. Он пел и рисовал, но главным его дарованием был дар актера, и счастливая случайная возможность развить актерский талант Сима представилась. В школе существовал драматический кружок. Им руководил актер Большого Драматического Театра.
Мой одноклассник Бруно Фрейндлих сделал блестящую карьеру, став артистом этого театра. Начало его сценического образования восходит к школьному кружку. Ни Сим, ни Брунка, как звали мы будущее светило рампы, не были коренными упряжки, несшей школьный кружок к вершинам театрального Олимпа. Коренником был Регель [физик Анатолий Робертович? 1915-1989]. О его судьбе я многократно, и всякий раз безуспешно, пыталась узнать. У двух пристяжных, Фрейндлиха и Сима, актерское дарование выявилось с предельной несомненностью, у Сима раньше, чем у нашего Бруньки. Я не помню, в какой пьесе Мольера он играл отца похищенной красавицы, но в моих ушах и сейчас звучит его вой. Воя, он выходил на сцену, запрокинув голову и закрыв глаза ладонями широко расставленных рук. Его исполнение роли пушкинского мудрого цыгана было безукоризненным. Дефект воссоздания роли старика нашла мама Лиды Чудновской. Ошибку сделал режиссер. Гримировать нужно не только лицо, но и руки старика, сказала она мне. Немец и француженка были ее родителями. Критикуя спектакль и отзываясь с похвалой о моем брате, она ласково называла его старичком. «Ваш брат, старичек,» начинала она свои похвалы, и слово «старичек» звучало как «старый черт».
Не могу, погружаясь с головой в поток воспоминаний, удержаться от отступления, к карьере Сима отношения не имеющего.
Мама Лиды Чудновской [не она ли и мать физика и коллекционера живописи Абрама Филипповича Чудновского, 1910-1985?] давала на дому уроки немецкого и английского, была арестована и в лагере покончила с собой, пояснив в записке, что видит в самоубийстве единственный способ доказать ложь предъявленных ей обвинений.
Каждая семья моих подруг стала ареной тех же трагедий. Ашечкин папа, а затем и она сама, блистательная Ашечка, заведовали инженерными кафедрами в Лесотехнической Академии. Ее перу принадлежит великолепная книга по сопротивлению материалов, где изложение истории биомеханики восходит к Галилею.
Ее собственная сопротивляемость на много превосходит прочность древесины, предназначенной Природой сопротивляться тяжести собственной кроны, ураганным ветрам, всем буреломам на свете.
Ее семью, как и семью моего отца и меня саму, спасла от уничтожения смерть Сталина, того, кто обеспечил счастливое детство всем, не достигшим возраста подсудимых, всем, не подпавшим под закон о снижении этого возраста до 14-и лет. Плакаты, гласившие «Спасибо Сталину за счастливое детство», со всех стен и заборов вкладывали в уста каждого, безотносительно к возрасту, слова благодарности вождю всех народов и отцу всех детей.
Самая красивая женщина в мире, на много превосходящая по немыслимо прекрасному цвету глаз Марию Антуанету, изображенную льстивыми портретистами, мать Ирочки Слепкиной, безгрешной Лорелеи моей пьесы, обучала немецкому языку малолетних великих князей, сыновей Алексея Александровича, дяди царя. Она была арестована и послана вместе с сонмом заключенных рыть ямы под телеграфные столбы аэродрома. Ее трем дочерям было предложено стать стукачами. Они согласились и дали подписку о неразглашении, надеясь вернуть мать домой. Мать Лорелеи отпустили и она вскоре умерла. Сабина рассказывала нам, как она убеждала кагебешников, вымогателей доносов, в горячей любви к ним всех без единого исключения, с кем ей доводилось общаться.
Отец Герты, латыш, женатый на немке, богатый человек, владелец мельницы. Семья, где было трое детей, жила в Гатчине, одном из богатейших пригородов Петербурга, в доме, построенном знаменитейшим архитектором Петербурга.
Река Мойка, в двух шагах от ее набережной располагается здание нашей школы [Петершуле?], огибает остров, именуемый Новой Голландией. От Мойки вглубь острова прорыт канал. По обе его стороны цоколями обращены к нему величественные здания лабазов, а между ними, венчая канал и, как бы раздвигая своими могучими серого камня колоннами пространство между лабазами, высится арка, достопримечательность и украшение Петербурга, арка Новой Голландии. Она выстроена по проекту того же архитектора, что и дома Адама Цильдермана в Гатчине [Жан-Батист Валлен-Деламот?].
Дети в Гатчине не жили. Они воспитывались в Петербурге, в семьях, где их обучали языкам и музыке.
Великий труженик стал богатым человеком, владельцем мельницы, не сразу. Сужу по тому, что он неизлечимо болел профессиональной болезнью тех, кто стоит у вращающихся жерновов, болезнью мельников, туберкулезом.
Он был арестован, но до лагеря его не довезли. Полумертвого его выбросили на каком-то полустанке. Чудом он попал в больницу и его престарелая сестра привезла его домой. Он умер, а вдову его и детей вышвырнули из дома. Герта с матерью ютилась в полуподвале на той же улице, где во флигеле дворца великого князя Алексея Александровича жили мы.
Все это было потом.
Пока мы учились в школе, на подмостках сцены в одну шестую часть суши [одну восьмую без Аляски, Польши и Финляндии] разыгрывалась только еще завязка трагедии двухсотмиллионного народа.
Мы окончили школу в 1929 году [ей 16 лет], когда началась кульминация трагедии. Кульминация продолжалась до марта 1953 года, когда великая благожелательница наша, смерть, задушила Сталина в своих объятиях, став поперек его пути к мировому господству. Четверть века длился период, когда погибали родные и близкие моих танцовщиц.
Как уже сказано, события эти не имели отношения к судьбе Сима. Арена, где разыгрывалась драма выбора профессии Симом, ограничивалась семьей и школой.
Воздействие на мою будущность отец и мачеха оказали косвенно, ограничивая школой мое приобщение к мировой культуре. Попытка мачехи воспрепятствовать исполнению моей пьесы была единственным прямым вмешательством в школьные дела.
В школе, помимо драматического, был кружок слушанья музыки. Я не пропускала ни одного концерта. Исполнитель приходил из Консерватории, играл на рояле и называл вещи. Мы учились слушать. Докладывать родителям об этих бесплатных уроках было необязательно. Этим мой кружок наивыгоднейшим образом отличался от кружка, где был Сим.
Как член труппы любого театра, Сим стал бы его украшением не только как актер, но и как поэт-драматург и как костюмер-парикмахер. Его участие в моем спектакле тому залог.
Сим не стал ни драматургом, ни актером, ни парикмахером, потому что Большой Драматический Театр, где служил руководитель драматического кружка, не давал в аренду костюмов, а давал бы, школа не имела средств их брать.
Костюмы поставляли родители выступавших. Бедная Марьмиха! Дать ребенку пять копеек, чтобы он мог запить принесенный бутерброд большой кружкой сладкого чая, было для нее сущим мучением. Она давала.
С какой просьбой мачеха обратилась к отцу и почему он один единственный раз ощутил необходимость прибегнуть к помощи школьной администрации в воспитании Сима, и пошел к директору школы, ясно без слов.
Исключение Сима из драматического кружка не заставило себя ждать.
Сим с его феноменальной памятью и любовью изучать языки стал специалистом по трансляции географических названий на всех языках мира.
Он умер вскоре после своего пятидесятидевятилетия. Природа, указав ему путь к рампе, сделала его гениальным комедиантом.
Когда позже нам случалось собираться, и Сим был с нами, он читал нам стихи. Когда Иван-дурак, герой Конька-горбунка, пел изо всей дурацкой мочи распрекрасные вы очи, можно было обхохотаться.
В жизни, не на сцене, он с превеликим артистизмом выражал свое неуважение ко всему, чего жаждет и алчет обыватель, ко всему ходульному, чем услаждает себя честолюбец.
Презрение к комфорту Сим и я вынесли из родительского дома, из дома отца и мачехи.
Держать детей в черном теле очень полезно для закалки характера. Мы были лишены материальных и духовных прелестей жизни. Нас скудно кормили, плохо, а меня даже издевательски плохо, одевали. Мы ни разу не переступили порога соборов, музеев, концертных залов, кинотеатров и театров.
О существовании библиотек я узнала от Сима. Книг нам не давали. Я так и не читала Марка Твена, ничего кроме «Принца и нищего». Райнис, мой одноклассник, дал почитать. Брать книги из библиотеки запрещено. Книги могут занести инфекцию. Этим, и только этим, запретом Сим пренебрегал. По ночам на кухне он читал толстые, засаленные книги, добытые им из библиотеки.
На предписанную нам суровость мы отвечали презрением ко всему тому, чего нас лишали.
Вы лишаете нас того и другого, а нам этого и не надо. Прежде всего это касалось материальных благ. Мне не раз пришлось отвергнуть дары судьбы, когда она избирала не подходящего для меня благодетеля. Даже орден однажды отказалась принять из рук Горбачева.
В сознании Сима, слава, бессмертие, намертво включились в сонм тех благ, которыми он пренебрегал. Стадный элемент религии отвращал его от Бога.
В то время, когда до моего слуха донесся обрывок разговора Сима с отцом, Симу было лет десять.
Случай был из ряда вон выходящий. Отец с нами не разговаривал. Он даже смотреть в нашу сторону избегал. Слова отца не долетели до моего слуха. Сим возражал ему: «Я не верю в Бога и никогда не поверю. Если передо мной коробка, которую я никогда не смогу открыть, зачем мне думать, что в коробке шоколад? Я буду думать, что она пуста.»
Я стояла у его постели, когда он умирал. Он спал и, казалось, ему получше. Вдруг он широко раскрыл глаза. Восторг и благодарное удивление озарили его лицо, и он сказал: «Бог пришел». Он заснул и больше не проснулся.
Бог вступил на подмостки сцены, где завершалась еще одна драма жизни, в момент, когда спускался занавес, чтобы скрасить кончину несостоявшегося великого артиста.
Париж, 1996.
помещено в сеть 21 октября 2018
